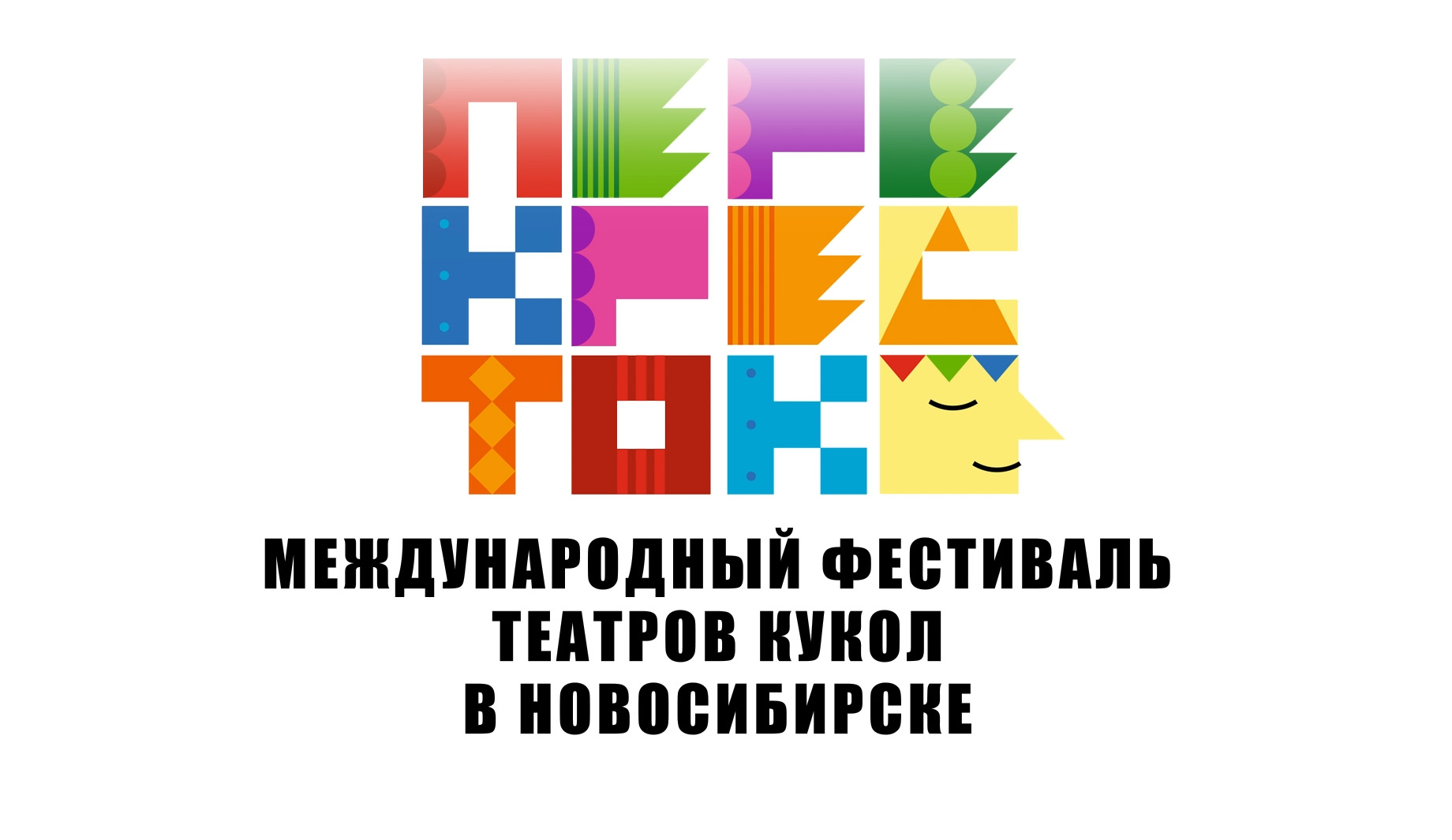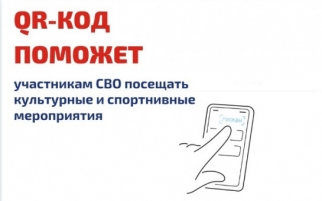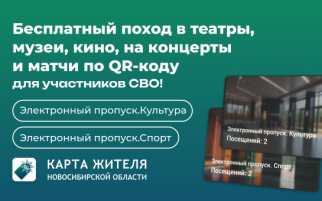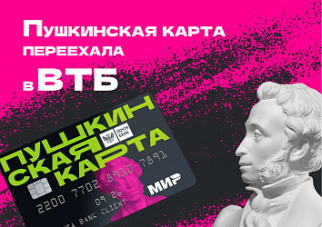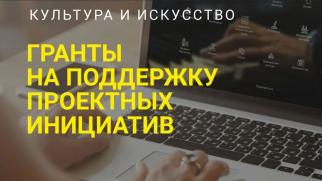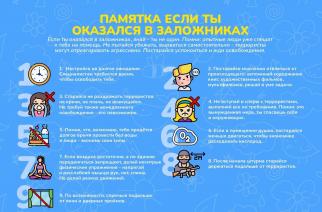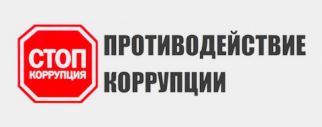Сразу два новосибирских театра занялись осмыслением двадцатых годов столетней давности. Двадцатые уже три века подряд – важный поворотный шарнир в механизме русской жизни. В равной мере чарующая и пугающая деталь конструкции.
Два спектакля на тему 1920-х в близком календарном соседстве и в границах одного города – это не то чтобы бум, но уже вполне тренд. У нас тут свои двадцатые на дворе, мы в них обжились (при всей бурности последнего трехлетия). И тем интереснее поглядеть на двадцатые прошлые – столетней выдержки.
Это во франко-англосаксонском мире они ревущие двадцатые. В спазмах джаза и блюза, в хроме и позолоте ар-деко. Отечественные двадцатые в лучшем случае в габардинчике от «Москвошвеи» и под «Мою Марусечку». Зато наши, уж какие есть.
В эту эпоху практически одновременно заглянули два новосибирских театра – «Глобус», где Лев Северухин поставил «Самоубийцу» Николая Эрдмана, и Новосибирский театр кукол (НОТЕК), где Анастасия Неупокоева лихо приспособила буфетный зал под спектакль по прозе Зощенко «Нарочно не придумаешь».
Такое хронологическое соседство двух зрелищ на одну тему дало интересный результат – стереоэффект. Такое бывает, когда смотришь на предмет в два окуляра (Природоведение, четвертый класс).
Поворот винта
Двадцатые в России в принципе время презанятное. Особенно их средина. Уже три века подряд. В этот период у нас исправно что-то случается – то, что меняет ход истории, нравы и эстетические тренды.
В двадцатых восемнадцатого века откинула ботфорты петровская форсированная модернизация и начался у нас нервический и горячечный женский век. Век «шальных императриц». К слову, он и в Европе был вполне женским. К 1780-м дело дошло до пика ПМС. Ну, а потом «эти дни», кровоизлияние якобинства. Прям на кружева. Ой, всё, молчу, молчу…
Двадцатые девятнадцатого века – кроваво-нервное прощание с прекраснодушным александровским евроцентризмом, с остаточной франкофилией, с желанием быть любимыми всей Европой. Оказалось, нас там не любят. И даже не собираются. И не за какие-то грехи, а просто за факт наличия на глобусе.
Двадцатые двадцатого, ближайшие к нам – пора, интересная своей мозаичной пестротой. Поворотный шарнир истории уже вовсю заворочался, но ручки-ножки-пальчики в его щель еще попали не у многих.
На дворе пестрое «междумирье». Стиль конструктивизм ещё не олицетворяет эпоху, он ещё не возмужал и пока по-ясельному возится со своими серыми кубиками в песочнице дальних московских окраин. В рекламах «Моссельпрома», «Красного треугольника» и «ТэЖэ» ещё клубятся русалочьи кудри ар-нуво. В универмагах Мосторга и Ленторга ещё достаивают свой пост старорежимные манекены французской фабрики «Пьер Иманс», спешно-коряво постриженные под комсомолок и динамовцев. А комиссаров в пыльных шлемах уже частично повыкосили. Пока не триммером, а поштучно, ножничками.
Бог с табачного облака
В спектакле НОТЕКа тревожно-зыбкий шарм междумирья – не единственная, но яркая специя. Во-первых, локация, а ля кабаре – не зрительный зал, а театральное кафе. Во-вторых, полный паритет актеров с куклами. Люди тут не кукловоды, а актёры в чистом виде. Большинство и вовсе без кукол (Андрей Меновщиков, Станислав Поздняков, Максим Бобоедов и Андрей Русс). Соло, во всей красе и гротеске своих персонажей. Разные социотипы Ленинграда, ещё не отвыкшего быть Петроградом и Петербургом – люксовый пролетарий тогдашнего разлива (целый электрик, не дворник какой!) и несколько заготовок советской интеллигенции, ещё не отполированных до предвоенного ленинградского лоска.
Куклы, впрочем, тоже имеются (не забываем об имени театра!) – кукла-маппет Муся Веригина, томная исполнительница романсов, оживленная Полиной Дмитриевой, и марионетка Михаила Зощенко со «своим человеком» Павлом Высоких. Который и не прячется вовсе, ибо его присутствие живости кукольному Михаилу Михайловичу совсем не убавляет.
По ходу спектакля он «всё живее и живее» — уверенный демиург собственного литературного Ленинграда, на который он из клубов сигаретного дыма смотрит будто бог с облака – с мучительной нежностью. Дескать, что ж вы такие корявые-то, сограждане, а?!
Да, язвительный Зощенко любил свой город и его обитателей. И сучковатых понаехавших экс-селян, и манерных «бывших», и потешных гомункулов новой культуры. Этим перчёный зощенковский юмор отличен от абсурдистской эстетики его младшего коллеги Даниила Хармса. У Хармса мизантропия эталонной концентрации – борщ из одной уксусной кислоты, хоть и нарядный, акварелькой подкрашенный. Товарищ Ювачев предпочел бы своих героев в этом продукте вовсе нафиг утопить (да ему не дозволено, ибо бодливой коровушке боженька рожек не дал). А Зощенко хотел своих героев (они же – и читатели) воспитать и улучшить. Заставить их расти над собой.
Впрочем, большинство себя в текстах не опознавало. И расти над собой не хотело. А хотело лол и бугага. Ну, да человечество за сто лет не так уж сильно изменилось.
Впрочем, не будем строги к этим людям из Ленинграда срединно-поздних 1920-х. Ведь их всего-то десятилетие отделяет от очень страшных дней, от поры мучительного мужества и инфернального быта. Это именно они поволокут по заснеженным проспектам детские санки погребального назначения, это их дети напишут в блокнотах «умерли все». А пока все они живы и смешны. И шарнир эпохи только начал своё вращение.
Вот щас ка-а-ак умру!
Николай Эрдман Михаилу Зощенко приходится невезучим коллегой. Зощенко до обструкции от Сталина успел обильно вкусить литературной славы (даже в утомительных для себя объёмах), а вот пьеса «Самоубийца» Эрдмана – это в чистом виде работа в стол.
Написанная в 1928-м, она при жизни автора не то что не ставилась, но даже в виде текста не публиковалась. Первая отечественная постановка мерцательно случилась в Московском театре Сатиры в 1982-м, а журнальной публикации пьеса дождалась в 1987-м. Впрочем, к 2024-му статус многострадальности у «Самоубийцы» вполне сгладился. И теперь это отечественная классика черной комедии – жанра у нас в принципе нечастого.
Эстетически и эмоционально наши 1920-е закончились раньше, чем в календарном исчислении (потом похожее хроно-чудо случится с шестидесятыми). Потому «Самоубийца» воспринимается как этакое резюме двадцатых, как ироническая затворная пломба всех иллюзий и амбиций этой эпохи.
В сценической транскрипции 80-90-х главным мотивом «Самоубийцы» подразумевался антисоветский пафос – искусство той поры «совок» ненавидело с каким-то буквально чувственным упоением. Сейчас накал поостыл, тема «проклятого совка» весьма démodé и вне сферы хорошего вкуса (впрочем, как и симметричная тема лучшего в мире пломбира). И в «глобусовской» подаче смыслы и подтексты «Самоубийцы» менее плакатны.
Во-первых, ушла типичная для поздних 1920-х фрустрация под девизом «Для чего ж мы революцию-то делали?». Она и в советские-то времена звучала несколько натужно. Ибо главгерой, Семён Семёнович Подсекальников (Никита Сарычев) к революции причастен непонятно чем. А именно – ничем не причастен. Статус же его, давший имя пьесе, образовался из сущей безделицы – из-за ссоры с женой (Нина Квасова) по поводу ливерной колбасы.
Ливерная колбаса довольно быстро получена, но слово – не воробей, желание наказать родных своей смертью уже оглашено. Мол, злые вы, уйду умру я от вас (с). Сказано – сделано? Нет. Последующая цепь событий – демонстративно-тщеславная подготовка главгероя к самоудалению из популяции жизнелюбивых советских граждан.
Главное в этом – собственно подготовка и оглашение намерений. Постепенно к рефлексии по этому поводу подключаются все обитатели коммуналки – тёща Подсекальникова Серафима Ильинична (Екатерина Гуралевич), хлопотливая старушка с грацией комнатного тиранозавра, сосед, товарищ Калабушкин (Вячеслав Кимаев) и быстро множащийся сонм ближних и дальних сограждан.
Постепенно из шумного сообщества эмоционально потрясенных вычленяется деловитый актив функционально заинтересованных. Каждому из членов этой группы анонсированный суицид Подсекальникова насущно нужен.
Например, районная фам-фаталь Клеопатра Максимовна (Ирина Камынина) просит, чтобы Подсекальников застрелился из-за неё и огласил в записке именно эту причину – безответную влюбленность. Мол, вам же там, мужчина, всё равно будет, а девушке приятно и в репутацию плюсик. Писатель-графоман Виктор Викторович (Александр Петров) убежден, что стреляться надлежит ради искусства, гиперактивный идиот-комсомолец Егорушка (Никита Зайцев)– что ради Коминтерна, а священник отец Елпидий (Руслан Вяткин) — что Бога ради. Как христианство относится к самоубийцам, батюшка запамятовал в ажитации – просто ему очень нужно уязвить «безбожную власть», а это дело поважнее будет.
Язвителей власти и радетелей за неё вокруг Семёна Семёныча примерно поровну. И каждый передаёт пожелания и депутатские наказы.
Периодически в сюжете всплывает и роковая ливерная колбаса. Бутафоры «Глобуса» над этим продуктом-триггером поработали на славу – вяловатая физика и геометрия продукта воспроизведена очень точно. И из кулака задумчивого Подсекальникова она свисает с фрейдистской выразительностью. Очень снижая этим надрыв истории (что, собственно говоря, на берегу задумано).
Разумеется, реальной смертью столь ажиотажная подготовка к суициду закончиться не могла. Закончилась она суицидом репутационным. И не штучным, главгеройским, а коллективным. Всех, кто «радел и уповал». Всех, кто готовил Подсекальникова к эффектной миссии сакральной жертвы.
К слову, чтоб ассоциации с современностью не были бы слишком лобовыми и памфлетными, спектакль снабжен дисклеймером: фонетически богатый мужской голос, как тот бог из машины, сообщает, что пьеса написана в 1928-м. Дескать, никаких намеков, просто дух эпохи.
Структура смеха и смешного тут временами такова, что возможны зрительские флэшбеки из дошкольного детства. Наверное, у каждого был в ту пору такой родительский знакомый – вполне добрый и чадолюбивый дяденька, который встречных детей любил веселить не шутками, а, так сказать, физиологически. То есть, щекоткой. Жмякать, бусить и тетешкать. И вот сидишь ты коленях у такого гостя, на сеансе жмякинга и бусинга, не успевши вовремя убежать, и устало хохочешь. Дядя Петя, хватит! ДядьПеть, апути! А он тебе: «А ВОТ НИПУТЮ!!!!».
В общем, о том, что «Самоубийца» — комедия, хоть и чёрная, зритель не забудет ни на миг. Но для большей утончённости ей ещё надо за сезон уплотниться, «утрамбоваться». А на других участках арт-ткани, напротив, разрядить плотность. Поскольку «Самоубийца» — постановка с замахом на зрительскую популярность, время на то, чтобы настояться, у спектакля точно будет.
Два столь разных зрелища, посвященные 1920-м – это не глобальный, но основательный заход в тему. Возможно, и еще будут. Ибо время мотивирует. Впрочем, наши-то двадцатые только-только к середине подобрались…
https://ksonline.ru/561428/sto-let-spustya-opyat-dvadtsat-pyat-v-novosib...